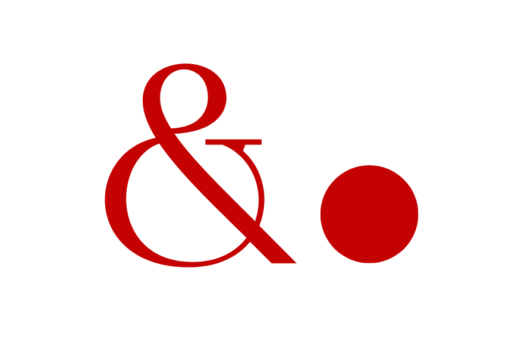13 сентября 2022 года не стало франко-швейцарского кинорежиссера, кинокритика, актера, сценариста, монтажера и кинопродюсера Жан-Люка Годара. Он пришел в кино, чтобы сделать революцию. И теперь навсегда запомнится нам как представитель «новой волны». В 1964 году Годар описал влияние себя и коллег: «Мы ворвались в кино, как пещерные люди в Версаль Людовика XV».
Мы собрали для вас цитаты из интервью Жан-Люка Годара, чтобы окунуться в его творческий путь. Возможно, они помогут вам запустить свою волну – тоже новую.
***
«В 1950-х годах кино было так же важно, как хлеб, но это уже не так. Мы думали, что кино утвердит себя как инструмент познания, микроскоп… телескоп… в Синематеке я открыл для себя мир, о котором мне никто не говорил. Они рассказывали нам о Гёте, но не о Дрейере… Мы смотрели немые фильмы в эпоху разговоров. Мы мечтали о кино. Мы были как христиане в катакомбах».
***
«Я начал делать фильмы только к 30-ти годам, а моя жизнь и мои мысли всегда отставали от кино. Если представить это в виде поезда, кино было локомотивом, а политика и все остальное — последним вагоном. Только начиная с «Моцарта» и особенно с «Фильма Социализм» одно поравнялось с другим, как и в моей личной жизни, поскольку личная жизнь соединилась с кинематографической».
***
«Меня беспокоит плоскостность экрана. Мы немного утратили (и даже не немного, но это нормально, ничто не стоит на месте) чувство пространства, которое было присуще ранним фильмам, до Второй мировой. Потом все стало более плоским и совсем не таким, как в живописи. Иногда хорошая фотография выражает больше, чем кинокадр».
«Сейчас, во всяком случае, я начинаю со сценария — точнее говоря, с того, что американцы называют storyboard (раскадровкой), только последовательность планов в ней определяется не хронологией, а скорее чем-то бессознательным. Это все равно что эскиз для классического художника. Я часто предпочитаю эскизы Делакруа его большим полотнам, потому что в эскизе ощущается движение, открытость, тогда как картина статична, и на нее налагается текст. Мы говорим: «Свобода, ведущая народ». Но когда он делает эскиз, мы видим свободу в действии».
***
«Я устал все время быть на бегу, делать тысячу вещей. Мне это не интересно, я больше не хочу. Даже втроем работать утомительно. Потому что двое других — мои хорошие друзья, незаменимые в повседневной жизни, но что касается разговоров о кино, их просто нет. Мне этого не хватает. В такие моменты начинаешь разговаривать сам с собой. И это тоже становится привычкой».
***
«На мой новый фильм Wild Bunch дает (обещает) 300 тысяч евро. Сделать его нужно за два года (срок довольно небольшой — всего год на пять пальцев и год на руку). Если этого не хватает, я отдаю продюсеру то, что получаю с телевизионных показов во Франции, и не прошу возвращать. То есть, имея 300 тысяч, мы должны сделать фильм и оплачивать работу трех человек, включая меня, в течение двух лет. Но если я буду платить нам из денег фильма, на это будет уходить по 9 тысяч в месяц, а месяцев — 24. И на фильм, таким образом, ничего не останется. Поэтому мне и приходится давать свои деньги продюсеру — по счастью, у меня есть небольшая сумма. Я не хочу ничего у него просить. Вот что такое экономика фильма. Было бы интересно посмотреть, может ли большая экономика функционировать подобным образом».
***
«Для меня всегда важен зритель. Он должен видеть на экране не то, что происходит в жизни, а то, что он не увидит нигде. Большие деньги… Когда речь идет о больших деньгах, то забывается сам зритель. Я не думаю, что, например, Спилберг думает только о зрителях… Его проекты миллионные. Да, миллионные… Где тут место зрителю? Если только зритель не думает так, как он».
***
«Конечно, Эйзенштейн думал, что открыл монтаж… Но я под этим понимаю нечто куда более объемлющее, благодаря чему ты наконец ощущаешь себя в безопасности. В видео этого момента, единственного в своем роде, нет, поскольку резать там нельзя. При монтаже — я говорю об этом в «Короле Лире», там, где Вуди Аллен соединяет куски пленки английской булавкой, — ты ощущаешь этот момент физически, как некий объект, как, скажем, эту пепельницу. Там у тебя есть прошлое, настоящее и будущее».
«При монтаже встречаешься с судьбой. Съемки — вольная пора, во всяком случае… ты волен шмякнуться об землю. А потом встречаешься с судьбой, и происходит то, о чем Сартр очень хорошо сказал: как только наше общество выдумывает себе судьбу и нарекает «судьбой» свою свободу, судьба сразу же в ответ эту свободу ограничивает. Именно в этих границах и выражает себя творение. Лишь немногие беременные ощущают, что их тело чем-то ограничено, хотя они могут делать лишь определенные вещи, лишь определенным образом. Но именно этот период они ощущают как главное свое творение».
***
«Обычно первые фильмы у всех слишком длинные, так как в них вкладываешь два десятилетия жизни. «На последнем дыхании» длился два с половиной часа, и мне сказали: «Слишком длинно». Я не знал, что вырезать, что оставлять. Не знал, как резать, и просто попытался оставить все, что мне в этой картине нравилось, все, что я назвал бы сильными долями такта, — с моей точки зрения. В конце концов осталось час двадцать пять — час тридцать. Я считал себя новатором. А потом нашел похожую историю в мемуарах Роберта Пэрриша. Он принимал участие в монтаже «Всей королевской рати» Роберта Россена. Фильм длился три часа или три тридцать, монтаж шел два или три года, и никто уже не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Пэрриш сказал Россену: «Оставим сильные доли тактов… Если сильной долей считать момент, когда он входит в комнату, то следующие пять минут разговоров — слабая, и мы их вырежем». Так они и поступили, сократив картину до полутора часов, после чего она и получила «Оскар».
***
«Съемки — это что-то слишком бурное, в ходе их это почувствовать нельзя. Обычно если съемки проходят хорошо, то фильм выходит совершенно идиотским. Слишком много принимается решений, слишком много женщин, денег, историй, правил, грез, расчетов, упущений. Это-то людям и нравится. Это чудесное соревнование. Вам все дается, если только вы не автор. Вам дают историю, дают материал — придумывать не надо, если вы не сможете распорядиться им толково, ассистент или патрон поправят дело, вам предоставляют нужные связи, возможность путешествовать, вам возмещают расходы. Это расчудесный мир».
***
«Я не верующий, но когда я у св. Павла читаю: «Образ предстанет после возрождения…» Что ж, после трех десятков лет занятий монтажом я начинаю это понимать. Для меня монтаж есть возрождение к жизни. Съемка ничего не возрождает — возрождению должны предшествовать жертвоприношение и смерть…».
***
«К счастью, съемки — вещь достаточно живая, в некотором роде балаган. Именно благодаря этому ощущению утопии, мыслимости возрождения, которое дарит мне монтаж, одиночество досадно, но терпимо. Если кто-то работает таким же образом, я ощущаю себя менее одиноким. Всяк безумствует по-своему. Когда Штрауб заявляет, что печатает пять негативов каждого фильма, когда Риветт мне говорит, что собирается отрезать тридцать секунд от двух с половиной часового фильма, так как нужно свести его к двум двадцати, я ощущаю себя не настолько одиноким».
***
«Жалею, что, старея, я позволяю себе все меньше и что дальше буду дерзать все реже и реже. Жалею о временах «новой волны», когда мы не боялись ничего. Я хотел бы к этому вернуться. Думаю, лет через десять мне это удастся. Потому что, когда приближаешься к старости и к смерти, — это другое дело: больше нечего терять. Сейчас же я еще достаточно боюсь, мне хочется иметь какие-то средства, иметь возможность купить дом. Поэтому я говорю себе, что мне не стоит так снимать любовную сцену, поскольку мой сосед — о продюсере не говорю — рассердится и не захочет, чтобы я жил рядом с ним. Я осознаю, что смею все меньше, и меня это тревожит, я внушаю себе, что надо быть смелее… Но нужно, чтобы ты был не один: во времена «новой волны» мы были грозной силой, нас было трое-четверо, но мы все время без конца общались. Написав статью для «Кайе», я отдавал ее Ромеру, и если он мне говорил, что это хорошо, я радовался больше, чем если бы сейчас мой фильм посмотрело триста тысяч зрителей. Мы обладали колоссальной силой, которую я теперь утратил, как остывающая звезда. Тела становятся холодными».
***
«Я считаю, что в современном мире меньше веры, реже ощущается призвание. В этом мире стало больше людей, которые любят кино и, как я начинаю говорить, меньше таких, которых любит оно само. Оно все отступает, отступает — не важно, много зрителей приходит или нет, — оно все отступает, вы не можете это не чувствовать. Вы хотите пойти к морю, а оно отходит…».
Всегда ваш, &